В книге аргентинской писательницы Сельвы Альмады ни одно слово не тратится впустую: плотно написанный роман умещается всего на 150 страницах. Однако назвать историю повестью не поворачивается язык — Альмаде удалось не только коснуться ряда остросоциальных тем, но и обернуть её в нежнейший магический реализм и вдобавок совместить это с трепетным, почти любовным описанием природы и стихий, которые, впрочем, существуют в тексте не просто для красоты. Все тут ладно и хорошо: насыщенность, изящество, глубина погружения.
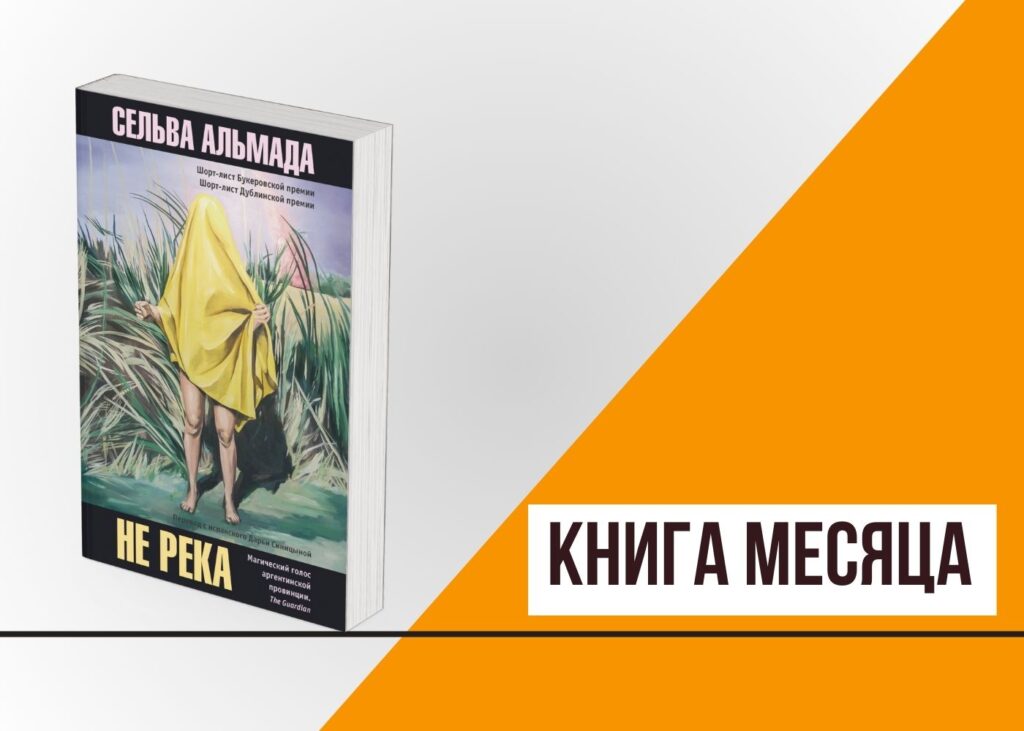
Книга попала в финал международного Букера-2024, а значит история будет о личном в контексте социального. Действительно, от Альмады можно ожидать высказывания на такие темы как: токсичная маскулинность, сюда же насилие как способ решения всех проблем, повседневность женщин, живущих в патриархально-провинциальном обществе, существование (или отсутствие) мужской дружбы, переживание горя и психические деформации личности, нетолерантность к инаковости. Причем все эти темы так или иначе писательница развивает уже в третьей подряд книге.
В “Не реке” трое мужчин приплывают на рыбалку в чужую деревню — они ведут себя слишком приметно для этой тихой заводи. Например, поймав большого красивого ската, один из рыбаков решает добить его выстрелом и при этом не желает ограничиться одной пулей. Когда на шум приходят местные, троица уже вывесила добычу на видное место и села распивать чай. Само по себе даже такое дерзкое и ненужное убийство ещё не провоцирует стычку, но когда деревенские узнаЮт, что чужаки не только не разделали ската, а просто вышвырнули его тушу обратно в реку, когда он начал гнить, то саспенс становится отдельной фишкой атмосферы романа, а драка — вопросом времени.
Медленное повествование и некая предсказуемость сюжета не значит, что текст расслабленный, а читателю остаётся только дожидаться мордобоя. Альмада часто меняет фокус повествования, рассказывая о повседневности жителей острова, которая, в свою очередь, состоит из постоянного соседства с прошлым, ноющим тихой фантомной болью. Так формируется магическая часть истории. Здесь, в междуречье, в этой тихой заводи, всё дышит утратой, горе здесь принимает разные формы, а декорации одновременно призрачны и реальны. И это чувство родства с печалью и скорбью, охватывает не только местных, но и чужаков, приехавших, как выяснится позже, не столько порыбачить, сколько вспомнить утонувшего здесь когда-то друга.
Бесшовность и текучесть повествования — свойство прозы Альмады. Здесь стирается грань между мистикой и настоящестью, сумасшествием и нормой, прошедшим и настоящим. Заглянуть в будущее тоже не проблема — читатель почти сразу понимает всю неотвратимость стычки между местными и троицей чужаков, приехавших порыбачить (и уже одним этим вторжением вызвавших неприязнь), неизбежна, но магия текста в том, что сюжет потихоньку обрастает новыми персонажами, трагедиями, нюансами их отношений, и основная линия «рыбалки» со временем уходит с первого плана. Сельва Альмада говорит, что описала бесправное, нищее общество, маргинализированное и обиженное властью, которая была у руля в Аргентине 90-х. Но даже не зная об этом, книга читается одновременно как обличение одних, тех, кого писательница считает виноватыми в декадансе, и реверанс другим, слабым, пострадавшим и раздавленным.
Небезопасность взросления в Аргентине — вторая по величине тема «Не реки», и если мальчишки здесь убиваются сами или получают по голове во время драки, то девчонкам грозит не только и не столько это. Альмада раскидывает по тексту эпизоды, связанные с фемицидом, дискриминацией и объективацией, потребительским отношением к девушкам (так один из полицейских постоянно меняет партнёрш, только-только достигших совершеннолетия, попользовавшись каждой относительно недолго — и гордо об этом рассказывает сослуживцам). Из этой мозаики довольно быстро складывается общая картина положения женщин в аргентинском обществе — права и свободы, это что-то, что с ними пока не случилось. Поэтому будьте осторожны, будьте сами за себя — шепчет писательский рациональный голос как бы между строк.
Отдельное удовольствие — то, как Альмада пишет границу между мирами живых и мёртвых, это нечто проницаемое, одновременно реалистичное и поэтичное (но не сентиментальное!). Ведь мы никогда до конца не забываем близких, а значит, они остаются в какой-то степени реальными для тех, кто остался по ту сторону. Проницаемость этой мембраны сделана у Альмады гораздо филиграннее, чем, например, в «Пойте, неупокоенные пойте», что, возможно, проистекает из писательской задачи — показать укоренившееся присутствие прошлого, то, как оно управляет этой страной и людьми.
К слову, будущее не так уж и интересует героев Альмады. Почти никто из персонажей не сопротивляется присутствию призраков, жизни с оглядкой на несправедливое, но давно устоявшееся. И ведь понятно почему. Прошлое — это ещё и мертвецы, которых ты отказываешься забывать, и которые отказываются просто так уходить, они присматривают за живыми, ведут их в лучшее будущее, и это какой-то очень трогательный и обнадёживающий для столь жёсткого романа аккорд. Сбой в работе реальности, без которого было бы совсем тяжело.


