Если кто-то рядом с вами произносит «пластическая драма», «спектакль без слов», «современный танец», wordless drama, «авторский хореографический сюжет» и «чувственное прочтение классики», будьте уверены: речь идёт о герое нашего интервью. Встречайте: Сергей Землянский – режиссёр-хореограф Центра театра и кино под руководством Никиты Михалкова, главный балетмейстер Театра сатиры, постановщик пластических спектаклей на многочисленных российских и зарубежных площадках. Творец театра, который не поддаётся классификации, и языка, который не требует перевода.

По специальности вы хореограф. Как, когда, почему заинтересовались хореографией? Танцуете с детства?
Да, танцую с детства – на детских праздниках, концертах. Говорят, что я начинал танцевать сразу, как только слышал музыку. Поэтому мама меня отвела в кружок бальных танцев, тогда ещё они не были спортивной дисциплиной. Позже я поступил в Челябинский институт культуры, по специальности я хореограф и педагог хореографических дисциплин.
После окончания вуза вы были участником известнейшего коллектива Татьяны Багановой «Провинциальные танцы», а потом переехали в столицу. С чего начинали здесь?
Когда я приехал в Москву в 2006 году, то пробовал танцевать в разных проектах, но всё было не то. У Тани Багановой очень высокая планка, до которой здесь никто не дотягивал, как мне тогда казалось. Потом мне повезло встретиться с Владимиром Панковым и сотрудничать с его студией SounDrama, которая теперь стала частью Центра драматургии и режиссуры (ЦДР). В постановках студии я участвовал как хореограф, и очень благодарен Володе, считаю его своим мастером. Он многому научил меня в плане понимания пластики, движения в драматическом театре.
В какой момент появилась потребность ставить спектакли самому в качестве режиссёра?
Всё началось с «Материнского поля» в Театре Пушкина (премьера 2012 года – здесь и далее прим. ред.). Артисты сами обратились ко мне с идеей постановки, предложили несколько вариантов материала. Многое пришлось «отбраковать», потому что не всё подходит для пластического театра. В итоге остановились на повести Чингиза Айтматова. Три недели делали наброски, а потом показали Евгению Писареву всё, что получилось. Это не был готовый спектакль, но худрук нашу работу одобрил, и мы всё доделали.
Как появилось название жанра wordless drama? Почему на английском?
После премьеры «Ревизора» в Театре Ермоловой (2015 год) в газете The Moscow Times вышла статья американского театрального обозревателя Джона Фридмана. Он тогда очень грамотно разобрал спектакль и как раз ввёл понятие wordless. Оно показалось очень точным, потому что, как выяснилось, сложно объяснить стиль, в котором поставлен спектакль. Так и взяли потом в обиход это удачное словосочетание – wordless drama.
В аннотациях на русском языке этот стиль часто называют «новая пластическая драма», что подразумевает наличие некой «старой» пластической драмы.
Это тоже журналисты придумали. Как известно, новое – это хорошо забытое старое, так что у нас тут ничего нового, всё уже когда-то было придумано. Терминология вообще условна. В самом деле, как назвать то, что я делаю? Не балет, не драма – что-то непонятное.

Тоже подумала, что проще идти от обратного: НЕ балет, НЕ хореография, НЕ танец, НЕ контемп, НЕ пантомима… Не сложно ли иметь дело с таким количеством НЕ? Наверное, приходится что-то запрещать артистам?
Тем, с кем уже не первый раз работаю, ничего объяснять не нужно. А вот новой труппе, действительно, каждый раз приходится что-то запрещать. В основном, запрещаю танцевать. Часто артисты уходят в танец, увлекаются, и я их беспощадно «осаживаю».
Пластическая драма ощущается как свободный театр, открытый для импровизации, при этом наверняка вы уже выработали какие-то общие каноны или правила. Не ограничивают ли они свободу?
Это правда, артисты в драме и в современном танце более свободны физически, чем, скажем, в классическом балете. Но свободу артиста иногда приходится ограничивать: я отслеживаю, чтобы получалось то, что мне нужно, и так, как задумывалось. Мне важно, чтобы было понятно всё, что происходит на сцене. А вообще в каждой постановке свои каноны, общего свода правил не существует.
В рамках пластической драмы работает совсем немного режиссёров: кроме вас на слуху, пожалуй, только Алла Сигалова, Анжелика Холина и Олег Глушков. Такой узкий круг – это вызов (ты всегда на виду) или наоборот момент уверенности (ты никого не повторишь)?
Даже если повторишься с материалом, это всё равно будет другой спектакль, «Анна Каренина» Анжелики Холиной у меня не получится.
Возьмёте «Анну Каренину» для постановки?
Не знаю, почему бы и нет? Если говорить о материале, то я в любом случае выберу классику. Вот, например, у Шекспира в «Ромео и Джульетте» есть, что ставить, есть действие. А у современной драматургии другие особенности: там текст, много воды, но нет глубины, необходимой для пластического театра.
Легко ли ставить в режиме «без слов» русскую классику с её богатым языком?
Ставить вообще сложно! Если уж так говорить, то каждый новый спектакль – всё сложнее и сложнее. Но мы лёгких путей не ищем.
Не жалко отказываться от слов?
Нет! Иногда придёшь на спектакль «со словами», артисты что-то играют, что-то говорят, а ты даже не понимаешь этих слов, в голове ничто не оседает. Не знаю, почему так происходит: может, время такое, может, я такой. Это как у Станиславского «верю/не верю» – либо подключаюсь, либо нет. Иногда даже кажется, что артисты сами не понимают, что они говорят. Поэтому мне не жалко отказываться от слов, какими бы великими они ни были. Всегда же можно после спектакля – и многие, знаю, так и делают – обратиться к литературе и перечитать произведение. Вот это круто!

Кого из русских классиков ставить сложнее – Пушкина, Толстого, Чехова, Лермонтова, Гоголя?
Вы не поверите, но самый сложный спектакль, который я ставил, был «Кот в сапогах» (премьера 2018 года, Екатеринбургский ТЮЗ). Казалось бы – детский спектакль… Сложность была в том, что у взрослого зрителя есть определённый жизненный опыт – события, люди, встречи, потери, приобретения, – и, значит, эмоциональные точки воздействия точно сработают. А с ребёнком надо найти эти точки, но не заигрывать, а именно понять, на что будет реакция, понятен ли будет сюжет. Это был процесс: как сделать театр понятным и интересным, что зрители смогут вынести, почерпнуть из спектакля?
Вы как-то отслеживали реакцию детей?
Да, я находился в зале на премьере, и я такого раньше не видел! По сути, в спектакле нет тишины, всегда идёт звук, музыка. Так дети в проходах танцевали, кричали, помогали Коту сбежать от Злого Волшебника, это была какая-то эмоциональная феерия!
Не захотелось потом что-то подкорректировать?
Я ничего не корректирую после премьеры: как родилось, так и родилось.
Как вы делаете перевод, транскрипцию с литературного языка? Как выглядит инсценировка пластического спектакля?
Переводов как таковых мы не делаем. Сначала пишется сценарный план для постановочной команды – для меня, композитора и художника. Это довольно сухой и сдержанный, тезисный материал, который нам нужен, чтобы понимать, что происходит, чтобы зафиксировать важные моменты и ничего не упустить. По нему я потом отмечаю галочкой готовые сцены. А спектакль делается, когда мы уже выходим на финишную прямую – на сцену, в декорации. Вот там я начинаю ставить спектакль, а в репетиционном зале только репетируем сцены. Сам спектакль создаётся за 8–10 дней до премьеры.
Что НЕЛЬЗЯ выразить через пластику?
Наверняка, есть какой-то материал, который сложен для пластики, – например, Островского, мне кажется, сложно ставить без слов, потому что у него многое завязано на языке, на юморе. Не рискну на сегодняшний момент ставить «Вишнёвый сад» Чехова. Может быть, спустя какое-то время я к этому приду, но не сейчас.
Все ли зрители восприимчивы к пластике?
Не знаю, мне кажется, что не все. Иногда они просто не готовы воспринимать или пытаться понять, что происходит. Многое от настроя зависит: если ты пришёл заранее с ощущением, что ничего не поймёшь, то ты и не поймёшь, естественно. А если идёшь с открытым сердцем, готовый получить эмоции, то всё придёт. Некоторые зрители делились со мной интересным наблюдением: когда вдруг для себя начинаешь понимать, «разгадывать» какие-то моменты – «так, вот здесь она его о чём-то попросила», «а вот тут он её бросил», – такие микропобеды в понимании происходящего на сцене позволяют тебе внутренне радоваться, легче подключаться. Многие зрители с первых минут «влетают» в спектакль и вылетают уже только на аплодисментах, такое тоже бывает.

Зрители часто пишут в отзывах «я ничего не понял, но мне очень понравилось». Испытать эмоции для зрителя важнее, чем понять сюжет?
Думаю, да. Мы ведь не делаем суперэкзистенциальных интерпретаций великих классиков, идём по сюжету, сохраняя авторскую основу. Всегда есть либретто, по которому можно ознакомиться с историей до начала, во время или после спектакля.
В интервью пятилетней давности вы говорили, что современный танец перестал развиваться. Что-то изменилось с тех пор?
Мне кажется, что нет.
С чем это связано?
Сложно сказать. В 2018 году я сидел в жюри «Золотой маски» в секции музыкального театра и посмотрел всё, что показывали. Многие постановщики уходят в экзистенциальные поиски, но, мне кажется, всё уже найдено, нечего искать, надо просто танцевать. «Танцуйте, танцуйте, иначе мы пропали! Танцуйте ради любви», как сказала великая Пина Бауш.
Вы говорили, что видите спасение современного танца в соединении с драматическим театром…
И не только с театром – с цирком и другими видами исполнительского искусства, с драматургией. Да, до сих пор так считаю.
… но разве не очевидно сейчас, что спасение современного драматического театра – в соединении с пластикой?
Возможно, вы правы. Я на самом деле не очень люблю драматический театр. По крайней мере, скажу так: есть определённые режиссёры, которые мне нравятся, за ними я по возможности слежу и хожу на их премьеры, потому что мне интересно узнавать, что будет дальше. О классическом драматическом театре не могу сказать, что он мне нравится. Повторюсь: слушаешь эти бесконечные монологи, диалоги, и уже не понимаешь, о чём и зачем они произносятся, и понимают ли сами артисты, что говорят их персонажи. Мне кажется, это самое печальное и страшное.
Сейчас время гаджетов, и подключение внимания стало совсем другим. Мы листаем ленту, и у нас есть 2 секунды, чтобы отреагировать. Если что-то заинтересовало, то – увеличить картинку, поставить лайк и листать дальше. Соцсети подсадили нас на быстрый способ считывания информации, поэтому длинные, растянутые, искусственно затянутые сцены и диалоги вызывают реакцию «я всё понял, что дальше?». Я ни в коем случае не призываю начать делать всё в mp3-формате, но чувствовать ритм современного дня важно.
Труппы в разных театрах могут находиться в разной физической форме, то есть они изначально по-разному оснащены для пластических спектаклей. Для более подготовленных команд вы усложняете задачу в плане движения или пластического рисунка?
В какой бы физической форме труппа ни находилась, процесс подготовки спектакля всегда изнурителен, я готовлю артистов по всем фронтам – в том числе, телесно и ритмически. Каждый день начинается с тренинга, часовой разминки – силовые упражнения, растяжка, много всего. Для той части артистов труппы, которые отобраны для постановки, процесс выпуска спектакля очень жёсткий, и благодаря этому они потом превращаются в прекрасных лебедей.
Как вы выбираете актёров для постановок – по драматическому таланту, по хореографической подготовке? Что важнее для вас?
При отборе мне важно, чтобы артист доверился, понимая, что будет тяжело, изнурительно, ново и необычно – принял для себя все стадии. Если я говорю артисту да, то и от него жду этого да, чтобы этот путь мы прошли вместе и я никого не тащил. Потому что если один тормозит, то из-за него мне придётся тормозить остальных. Ещё важно, чтобы у человека всё было в порядке с чувством ритма и координацией движений, и шикарно, если он может запоминать движения, но это тоже тренируется. Ну и важно, чтобы артист понимал, что он делает. Во время работы над каждой сценой я всегда проговариваю, что происходит, потому что если этого не делать, артисты часто начинают танцевать, что-то «изображать». Тогда я говорю «стоп, вот тут про это, а там про то». Для артиста, который впервые сталкивается с таким театром, многое не очевидно, поэтому я объясняю.

Сложнее ли работать в пластической драме с суперпопулярными артистами, которых знает не только театральная публика, но и широкий зритель? Например, главную роль в «Маскараде» исполняет Максим Аверин. Делали ли вы поправку на «звёздность»?
Максим, памятуя о его прошлых заслугах в труппе «Сатирикона», был достаточно хорошо оснащён в плане пластики и ритма. Я рад, что Максим принял моё предложение, и считаю, что для нас обоих это был интересный и полезный опыт. Максим – востребованный, высокопрофессиональный артист с жёстким съёмочным графиком, но, несмотря на это, спектакль выполнен в срок, довольно сжатый, по театральным критериям. Одни из главных черт в работе – это сплочённость команды, заинтересованность и отдача делу, любовь и взаимопонимание. Уверен, у нас всё это состоялось.
Как вы работаете одновременно режиссёром и хореографом? Вы сначала придумываете спектакль в общем, целиком, а потом бьёте его на эпизоды и их продумываете по движениям?
Изначально у меня есть выбранный материал и представление о спектакле, о том, как может выглядеть эта история. Это не спектакль целиком со всеми сценами, а просто ощущение от спектакля, его вкус, референсы. Когда к работе подключается художник Максим Обрезков и предлагает сценографию, форму костюмов для персонажей, то со своими представлениями я внедряюсь в эту его историю. Но пока ещё нет музыки, потому что она пишется по факту создания сцен. В репетиционном зале идёт работа над каждой конкретной сценой: я их сочиняю больше интуитивно и эмоционально, фантазирую с учётом авторского текста, под атмосферную музыку, дающую эмоциональный настрой, подходящую по духу. Готовую сцену снимаю на видео и отправляю композитору Паше Акимкину.
Не так давно выяснил, как работает Паша: он смотрит эти файлы с выключенным звуком и понимает, что там происходит. Потом мы с ним садимся и вместе раскидываем сцены по папкам, которых у него очень много по каждому спектаклю. А потом Паша принимается писать музыку. Уже на финишной прямой он сводит всё по таймингу, акцентам и нюансам. Получается, что артисты слышат финальную музыку в том виде, в котором её услышит зритель, только за два–три дня до премьеры.
Получается, уже невозможно ничего скорректировать?
Во время сведения спектакля на сцене за эти два–три дня иногда приходится много корректировать. В репетиционном зале ты можешь развести, например, адажио Звездича и Баронессы на балу на шесть минут, а на сцене смотришь и видишь много лишнего, и вырезаешь кусок, из шести минут делаешь две. Иногда это болезненно для артистов, но не для меня, потому что я понимаю темпоритм работы, к которому, как я уже говорил, нас приучили соцсети, – к быстрому восприятию ситуации.
В 2019 вы поставили в Латвийской национальной опере балет «Три товарища» на музыку Павла Акимкина. Расскажите немного о постановке.
Помню, как в 2017 году, когда мы договаривались о постановке с руководством театра, я озвучил автора и название. Первый вопрос был, на какую музыку будем ставить балет. Потому что вопрос авторских прав возникает всегда. Тогда я сказал, что у нас есть композитор, который готов специально написать музыку для балета. Так что Павел Акимкин уже вошёл в историю. Смотришь сводный репертуар Рижской оперы и видишь: Верди «Аида», Чайковский «Щелкунчик», Акимкин «Три товарища» (улыбается).
Ваш второй постоянный соавтор, Максим Обрезков – тоже уникальный художник: делает сценографию и костюмы одновременно. Именно этот его талант стал решающим для вас?
И с Максимом Обрезковым, и с Пашей Акимкиным мы познакомились у Володи Панкова в SounDrama. И как раз когда я ставил «Материнское поле», я позвонил Максиму и Паше и предложил поработать вместе. Они согласились, и с тех пор, что называется, так и повелось (улыбается). Третий мой постоянный и немаловажный соавтор – Саша Сиваев, художник по свету. Свет – это наше всё. Ещё в разные годы сотрудничали с разными драматургами, которые писали инсценировки и либретто, и ассистенты периодически меняются. Но мы вчетвером, постоянной командой, работаем из спектакля в спектакль, из года в год, и надеюсь, тьфу-тьфу-тьфу, что так и продолжим дальше что-то делать.

Сценографию спектакля «Марья» в Центре театра и кино п/р Никиты Михалкова создал другой талантливый художник, Юрий Купер, а Максим Обрезков стал автором костюмов. Почему решили разделить?
«Марья» родилась из «Метаморфоз», визитной карточки Театра Михалкова. Отличительная визуальная черта этих спектаклей – сетка плюс экстерьеры и интерьеры в проекциях: передняя проекция – на сетку, задняя – на экран. Так создаётся дух кино в театре, реальность и условность. Поэтому в «Марье» сохранили этот подход, а прекрасные костюмы создал Максим. Мы немного переформатировали постановку, как раз с Юрием Леонидовичем Купером сочиняли и собирали всё вместе. Потом на премьере он ко мне подошёл и сказал: «Серёжа! Наконец-то кто-то понял, что я хочу делать с этими картинками!» Когда изображение не просто висит статично, то и у визуального контента появляется работа и динамика.
Запомнился эпизод, где в проекциях было абсолютно живое, колышущееся поле ржи.
Когда репетировали эту сцену, проходили её несколько раз подряд, снова и снова, меня в какой-то момент буквально укачало, – было полное ощущение, что я еду вместе с героями по полю на колеснице.
В ваших постановках часто встречаются зеркала. Например, в «Воскресении» (Центр театра и кино п/р Никиты Михалкова) у главных героев есть их отражения-воспоминания, они «зеркалятся» движениями; в «Арбенине» (Театр сатиры) зеркала – важный элемент декорации. Можно ли сказать, что это часть почерка вашей команды – режиссёра и сценографа?
А ведь действительно… И не только в этих двух спектаклях есть зеркала. В «Пиковой даме» в Екатеринбургском ТЮЗе всё построено на зеркалах, они там присутствуют в разных объёмах. В «Калигуле» в московском Губернском театре тоже есть отражения через золотые подносы. Отражения – это всегда нечто мистическое: гадания, ворожба, суженый-ряженый… Даже когда заходишь в лифт с зеркалами, то образуется некий коридор отражений, я этого всего, если честно, побаиваюсь (улыбается). Это и страшно, и интересно – двойственный момент. Может, это подсознательно выходит на сцену. А вообще все визуальные решения и предложения идут от Максима.
Маска – ещё один элемент, который неоднократно встречается в ваших постановках. Маски есть в «Арбенине», маски-головы в «Калигуле», маски были в «Жанне д’Арк» (Театр Пушкина). Можно ли тут говорить о перекличке между постановками?
Я бы не стал их сравнивать, они разные. Маска именно как маска присутствует в «Арбенине». Помню, когда артисты впервые после репетиций оделись и вышли на сцену в костюмах, стало жутко: а что там под масками, кто они и что думают? А под маской ещё одна маска, и никогда не поймёшь, где нутро. Для одной из сцен в «Жанне д’Арк» Максим придумал «венецианские» маски, а в «Калигуле» это не маски, а головы.
На раннем этапе постановки, когда только формируется представление о спектакле, вы задумываетесь о том, на что это будет похоже? Задаёте команде какие-то ориентиры из мира кино, театра, живописи?
Из кино – точно нет. Иногда перед началом работы над постановкой бывает, что мы с Пашей Акимкиным садимся и накидываем звуковые и музыкальные референсы, каждый делится своим пониманием того, как это может звучать. Так мы примерно определяем эстетику.

По ощущениям «Арбенин» – более современный спектакль, мелодически и хореографически, чем, скажем, «Воскресение» или «Марья». Вы изначально его таким задумывали?
Когда в «Арбенине» в какой-то момент возникло суперсовременное звучание, близкое к техно, для меня это стало неожиданностью. Но Паша увидел эту сцену так, и вместе со светом и пластикой всё очень круто сработало. Репетировали мы под другую музыку типа босса-новы или сальсы с более современным битом. Паша ведь смотрел запись без музыки и увидел довольно агрессивные движения, поэтому написал по-своему. Я был в восторге, когда услышал эту версию.
В «Воскресении» и «Марье» по-другому: мы не ставили перед собой задачи придать Толстому или Чехову более современное звучание. Да и в «Арбенине» не было цели «осовременить» Лермонтова: есть уже ставшая классикой постановка «Маскарад» Римаса Туминаса в Театре Вахтангова, а мы просто хотели сделать иначе. При этом всё осталось в контексте произведения, мы к нему подошли трепетно, потому что у нас был Максим Обрезков, который строго следил и не давал нам уходить далеко от автора.
«Марья», «Воскресение», «Материнское поле», «Дама с камелиями», «Жанна д’Арк»… у вас много работ, посвящённых женщине. С чем связан такой интерес?
Авторы писали! (смеётся) Ну а как без этого? Женщина – праматерь, прародитель. Судьбы у них разные: у кого-то трагическая, у кого-то счастливая, хотя счастливые встречались редко. Перипетии судьбы – это интересно: как живут, через что проходят. Та же Толгонай в «Материнском поле»: что ей пришлось пережить и какая она сидит в конце спектакля! Но её жест и взгляд дают тебе надежду. Или «Дама с камелиями»: круговорот жизни, вихрь событий, а что в итоге?
Жанна д’Арк – ещё одна женская судьба. В 2016 году, уже после премьеры, я ездил во Францию, в Руан, и был в башне, где её держали. Там много скульптурных фигур и есть памятник Жанне на месте сожжения. Положение рук, взгляд – многое совпало с тем, как мы это делали с Настей (Анастасией Паниной, исполнительницей роли Жанны д’Арк в спектакле Театра имени Пушкина). До постановки я эту скульптуру не видел, и совпадение меня тогда поразило. Наверное, этот образ на каком-то подсознательном уровне возник. А вообще, место жуткое. Это сейчас там всё подсвечено, но если представить, как это было в Средневековье…
Или русские женщины в «Марье» – две части спектакля, два женских прототипа. Когда готовили постановку, я посмотрел сериал «Кровавая барыня» (2018 год, реж. Егор Анашкин) с Юлией Снигирь в роли Салтычихи, которая изводила своих крестьян. Мы репетировали новеллу «Барыня» с Полиной Шустарёвой, а ведь для неё это роль на сопротивление, потому что она по характеру очень добродушная, хотя внешне другая – стать, фигура, рост, мощь. Барыня и Марья – это весы, две контрастные фигуры, и какие!
Бывает ли, что какие-то простые эпизоды из жизни вы обращаете мысленно в пластические образы – подобно тому, как художники иногда делают наброски на салфетках?
Нет, не припомню такого за собой.
Простая жизнь не вдохновляет вас настолько буквально?
Не всегда, но бывает. На Маяковской часто играют уличные музыканты и люди пританцовывают, и иногда бывает интересно понаблюдать за характером движения. Это профессиональный взгляд, что-то из увиденного может потом где-то подсознательно «вылезти» на сцене. Или когда с друзьями общаешься, обращаешь внимание на жесты: бывают слова-паразиты, а я замечаю жесты-паразиты и периодически передаю «приветы» друзьям в спектаклях (улыбается).
За пределами театра вы многословны, разговорчивы?
Редко и не со всеми.
«Мысль изречённая есть ложь»: тютчевская строка с каждым днём всё актуальнее.
Я во многих интервью говорю, что словами легко обманывать, а телом – очень сложно, потому что всё считывается на психофизическом уровне: поворот плеча, наклон головы. Это в нас животный инстинкт – по движению мы понимаем эмоциональный посыл и можем разгадать, обманывают нас или нет.
Тогда получается, что пластический театр понятен всем.
Мы стремимся к этому – чтобы он был считываемым.
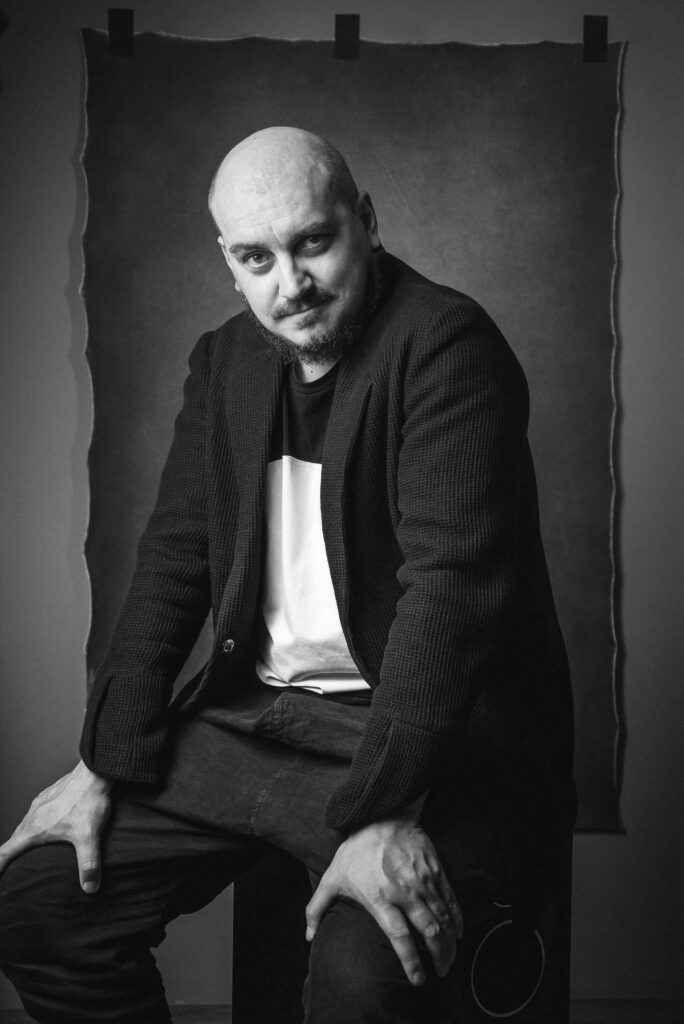
Спектакли Сергея Землянского, которые можно посмотреть в театрах в этом сезоне
Москва
«Материнское поле» (2012, Театр имени Пушкина)
«Калигула» (2016, Московский Губернский театр под руководством Сергея Безрукова)
«Воскресение» (2017, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова)
«7» (2021, «Высшая школа сценических искусств», Театральная школа Константина Райкина)
«Арбенин. Маскарад без слов» (2022, Театр сатиры)
«Марья» (2022, Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова)
Другие города
«Холстомер» (2018, Иркутский академический театр им. Н. П. Охлопкова)
«Кот в сапогах» (2018, Екатеринбургский ТЮЗ)
«Три товарища», балет (2019, Латвийская Национальная опера)
«Пиковая дама» (2020, Екатеринбургский ТЮЗ)


