Каждый спектакль Театра в Театральном музее так или иначе отсылает к его музейной природе, но «Тронутый» за родословную держится обеими руками. Он рассказывает историю основателя первого профессионального театра в России Фёдора Волкова, опираясь при этом на редкость почти музейную — сценарий фильма Булата Окуджавы и Ольги Арцимович «Мы любили Мельпомену», который был написан в 1978 году, но так и остался на бумаге.

И тот факт, что эта история добралась до сцены в первый раз, по-настоящему удивителен. Не столько из-за личности главного героя, сколько потому, что в ней чего только нет: и стартап в амбаре, и компания амбициозных талантов, и шанс на миллион, и трудно достающийся успех, и интриги с переворотами, и драки в партере, и любовь… Правда, исключительно к музе трагедии, но режиссёр Чакчи Фросноккерс это упущение исправляет, дописывая Волкову роман с будущей Екатериной II.
Хотя точнее будет сказать «дорисовывая» — не зря в постановочной команде аж пятеро художников. Здесь не пишут, а именно что рисуют, причем широкими мазками и преимущественно по доскам. Буквально: доски на сцене появляются много раз, в основном в роли чего-то бесконечного: ног придворного балетмейстера, рук провинциального чиновника, российских дорог… При этом за бортом истории остаются множество персонажей — главным образом придворных интриганов, а эпизоды монтируются с таким широким шагом, что уже в исходнике довольно плоский хронологический сюжет превращается и вовсе в комикс — но это парадоксальным образом идет спектаклю на пользу.
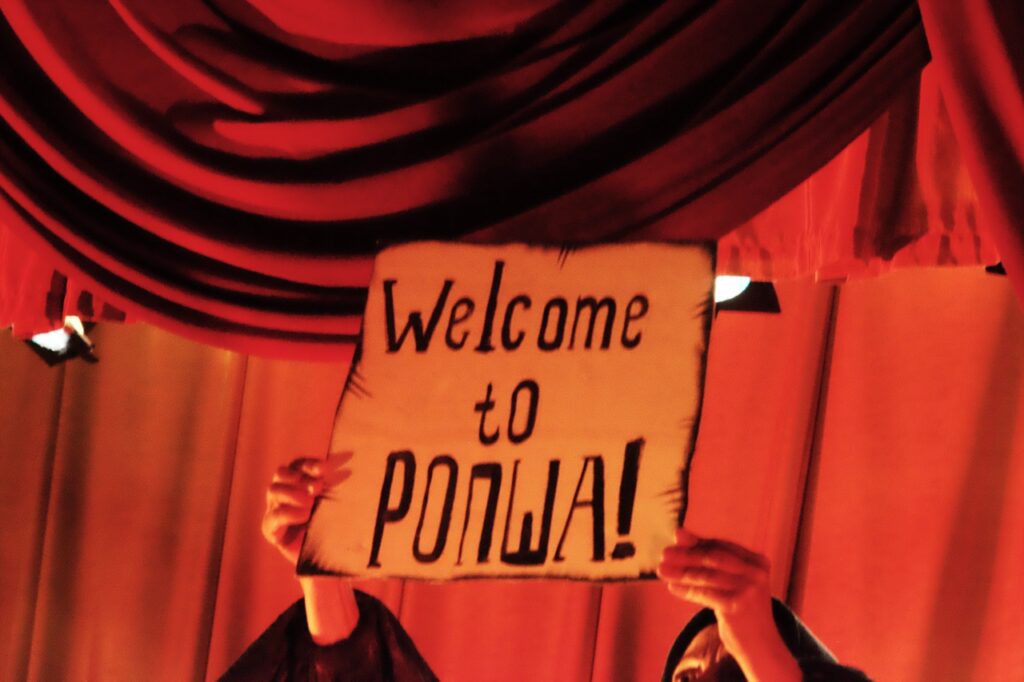
Оригинальный сценарий почти не прячет своей горечи по отношению к властям предержащим, которые в любви непостоянны, на расправу скоры и в целом только и делают, что мешают творческим людям работать. Постановка смягчает контрасты и уводит политические соображения на второй план, фокусируясь на творческом человеке — а точнее на том, что им движет. А уж эту движущую силу она показывает всей собой: действие постоянно рассыпается на кусочки и пересобирается по-новому, на сцене и даже за ее пределами царят веселая суета и галдёж, пересыпанный немудрёными шуточками, в кучу смешиваются люди… и нет, не кони, а куклы, потому что Чакчи Фросноккерс — создатель и худрук Малого театра кукол.

Кстати, возможно, это случайное совпадение, но в сценарии есть моменты, которые в чем-то отсылают к кукольному театру. Так, по пути в столицу артисты, призванные из Ярославля, проезжают через храм, где наблюдают за звонарями, а позже, в момент творческого подъема, начинают играть тех самых звонарей — и ошеломлённые очевидцы вдруг слышат колокольный звон. Эти эпизоды, не вошедшие в спектакль, отчасти получают в нём свое развитие — в образах удивительных существ, которые соединены с чем-то высшим, да так так хитро, что не всегда поймёшь, кто кем управляет.
Потому что если люди на сцене время от времени позволяют себе прозаические выпады: актёры напоминают зрителям, что они актёры, имеют дипломы и специальные навыки (у Анны Рыжовой вон немецкий А1), а также имена и номера телефонов (можно записать, кстати!), — то куклы с их огромными глазами, хрупкими фигурами и способностью порхать в воздухе прекрасно справляются с олицетворением творческой души. Вероятно, именно поэтому куклы здесь играют только настоящих творцов. И влюблённую Екатерину, когда она приходит к пруду, чтобы спасти Волкова, который уже повесил себе камень на шею. Это, кажется, единственное — и такое красивое — исключение!

К слову о Екатерине. Фёдор Волков действительно был приближенным императрицы, и в целом основные вехи его жизни от учебы в Шляхетном корпусе до устройства большого маскарада, которое окончательно подорвал его здоровье, в спектакле переданы верно. Но вряд ли стоит искать в нём документальной точности — впрочем, и сценарий Окуджавы имеет подзаголовок «Вариант легенды». И несмотря на то, что истинного масштаба личности Волкова он не раскрывает, куда важнее здесь оказывается сам факт пусть недолгого, но погружения в мир «тронутых» энтузиастов, готовых на всё ради своей мечты, которым невозможность играть куда страшнее оглобли по роже и крыс в партере. Людей, чьей волей и силой русский театр живет уже без малого триста лет, невзирая на чины и лица, затрудняющие — умышленно или нет — его свободное дыхание.
В конце у могилы отца-основателя печальные усталые люди, почти не меняя тона, произносят монологи Катерины Кабановой, Семёна Мармеладова, Юлия Капитоныча Карандышева, Сонечки Серебряковой — так, что ни в полёты, ни в небо в алмазах совсем не верится. А потом переглядываются и принимаются за сборы, потому что у них всего полчаса, чтобы всё успеть тут, а дома дети, а завтра подработка… И этот весёлый спектакль внезапно начинает казаться очень грустным — ровно до тех пор, пока Фёдор Волков не передаёт нам привет, показывая, что настоящий артист и через века после смерти сто очков вперёд даст любому ненастоящему.


