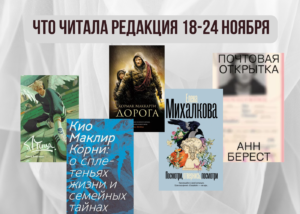«Голод. Голод имел значение. Голод – это наркотик со вкусом родниковой воды, клубничной жвачки и обжигающего чёрного кофе»
«Вероятно, дьявол» — первый роман из задуманной трилогии — встречал читателя глухим красным цветом, полотнами Матисса, обворожительным, самоироничным языком больной любви, выламывающей кости, и был посвящен абьюзивным отношениям между профессором и его студенткой. Это книга о «голодном сердце», которое разбивается о запредельную жестокость, но каждый раз срастается обратно, наращивая грубые швы и новые патологические сценарии. После Дьявола «Любовь моя Ана» оказывается не просто контрастным литературным пространством, но пугающим, моноцветным, чёрным. Как признаётся сама писательница, это история о борьбе с пустотой за ничто. Красота здесь редуцирована до экзистенциальной темноты, «голодное сердце» превращается в «ригидный мозг», который так истощён в схватке с анорексией, что с трудом воспринимает окружающую реальность.
«Разве не все письма — письма о любви?» — спрашивает автогероиня Софьи Асташовой. Исследуя свою болезнь, она приходит к выводу, что расстройство пищевого поведения принесло только «двенадцать лет призрачного ничто». Юность и большая часть взрослой жизни были выстроены вокруг психиатрического диагноза: Ана, как ласково героиня называет анорексию, стала центром Вселенной и подменила собой всё. Вместо новых ожогов от контактов с миром — радость при виде отвеса, вместо предательств — постоянство и стабильность голода.
Второй роман Асташовой органично дополняет формирующуюся внутри автофикшена нишу — документально точные описания болезней. Одним из ярких примеров поджанра последних лет может послужить сборник «Помутнение», где современные писатели и писательницы экспериментировали с погружением в структуру психических недугов — от посттравматического стрессового расстройства до биполярно-аффективного. Фактически этот процесс оживляет справочник нозологий, но вместо кодов и безликих диагнозов читатель получает опыт соприкосновения с реальностью пациента и его оптикой. Так на литературной арене сформировался аналог старинного амфитеатра, в котором студентам демонстрируют вскрытие: это уже не «терапевтическое письмо», а главы из атласа психопатологий.
«Губы превратились в кашу. Кровоточат и гноятся. Гноятся и кровоточат. Моё лицо напоминает печальный грим Пьеро, только губы обведены не чёрным, а красным. Рот окаймлён воспалением. Всё это трескается. Из трещин сочится гной, смешанный с кровью. Гной засыхает и покрывает губы жёлтыми хлопьями.
– Я умираю, – говорю я маме по телефону.
– Я хочу умереть, – говорю сестре и бросаю трубку до того, как она успевает что-то ответить»
Пройти весь путь с автогероиней Софьи будет нелегко: там нет искусственно созданной красоты, которой интуитивно хочется приукрасить страдание. Только дистиллят патологического стремления таять, чувствовать под кожей кости, обхватывать предплечье пальцами руки, видеть на весах уменьшающуюся цифру, бороться с организмом, а если быть точнее — против него.
Конечно, отправная точка в схватку со своим телом — это не отсутствие аппетита. Анорексия приходит, чтобы занять чьё-то место, чтобы создать иллюзию всеподдерживающей, всепрощающей подруги. Героиня падает в её объятия, а отрезвляющий глоток свежего воздуха делает впервые, только обнаружив своё будущее под кабинетом психиатра — другую пациентку с расстройством пищевого поведения, в глазах которой уже не осталось ничего человеческого и с лицом, «которое скорее указывает на отсутствие лица».
«Я боялась, что она увидит меня, вцепится в меня своими длинными костлявыми пальцами и станет душить. Даже мой спящий истощённый мозг включил сигнал тревоги. Меня переполнил ужас узнавания. Не так уж сильно я от неё отличаюсь. Я произвожу такое же пугающее впечатление. Жуткое. Эта несчастная незнакомка – я в будущем. Если продолжу в том же духе, то через несколько лет буду выглядеть точь-в-точь как она»
Что лучше всего удаётся роману Асташовой, так это реконструкция амбивалентного мира, в котором пациентка уже соглашается на лечение, но в тайне надеется продолжить снижать вес, в котором родные не вызывают ничего, кроме раздражения, но именно с ними так жизненно необходимы долгие телефонные разговоры с подробным разъяснением всех своих симптомов. Быть услышанной, быть признанной, быть худой. Умирать без желания смерти, голодать с нарастающим желанием пищи.
На встрече с читателями Софья рассказывала про желание есть (которое, вопреки мифам, у пациентов с анорексией присутствует) как про наваждение. Готовность грызть сухие макароны и облизывать замороженные куски мяса из страха, что время, потраченное на готовку, может оказаться критическим, и организм не дотерпит до приготовленного блюда. Погружение в мир Аны представляется таким же наваждением, и тексту удаётся физически забраться под кожу читателя, пересчитать его рёбра, изучить каждый его микрограмм.
Перед госпитализацией героиня забирает в библиотеке несколько книг, чтобы скоротать время в стационаре. Одна из них — «Бесконечная шутка» Дэвида Фостера Уоллеса, и этот момент можно считать лучшей визуализацией Аны. Хрупкие запястья с очерченными венами, увесистый том — призрачная хрупкость и трагикомедия встречаются в стенах больничной палаты.