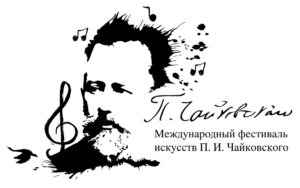На пресс-конференции Дягилевского фестиваля его худрук Теодор Курентзис назвал своей главной целью создание пазла из разных течений в искусстве, который помог бы людям ответить самим себе на важные вопросы. Фестиваль стартовал с места в карьер, соединив переосмысление русского авангарда (на выставке в Пермской художественной галерее) и попытки предугадать будущее (в первых показах перформанса Double Helix), романтический взгляд на жизненный путь от классика (в «Смерти и просветлении» Рихарда Штрауса) и наивное видение мира широко раскрытыми детскими глазами от современника (в симфонии «Зима Священная 1949 года» Леонида Десятникова).

Первая русская футуристическая опера называлась «Победа над солнцем». Первый концерт первого Дягилевского постпандемийной эпохи можно было бы назвать «Победа над ковидом». Он начался с преодоления смерти и увенчался поистине грандиозной кульминацией: свою единственную симфонию Десятников написал для оркестра, хора и солистов в составе почти двухсот человек!
Герой симфонической поэмы Рихарда Штрауса — пожилой художник — вспоминает свою жизнь, посвящённую стремлению к идеалу. И достигает его, но уже перешагнув роковой порог. Штраусу было всего 24, когда он сочинил «Смерть и просветление». Возможно, поэтому она звучит абсолютно жизнеутверждающе — как монументальное полотно циклического развития личности, которая переживает крушения и очищается через них.

В этом бушующем мире страстей фигура маэстро Курентзиса приобретает особый романтический размах и иконическую чёткость: вот он, герой, стоящий спиной к миру и лицом к стихии (как на полотне Каспара Давида Фридриха). Иногда кажется, что мелодия — это он сам, и если он внезапно прекратит движение, оборвётся и она. А то вдруг возникает ощущение, что огромная грозная музыка вот-вот обрушится в зал, сметая ряды, и только он — отважный заклинатель — удерживает её, усмиряет её мощь. Чтобы, укрощённую, ласково баюкать её в руках или свободно парить, ловя крыльями её потоки…
Второе отделение этот образ развеивает — то ли из-за массовости исполнительского состава, то ли из-за сложности произведения. Здесь дирижёр кажется уже не центральным персонажем развёртывающейся истории, а очень важной деталью огромного механизма, без которой тот не сработает.

Симфония Леонида Десятникова подхватывает заданную в первом отделении тему преодоления смерти. Пролог начинается с обрывка цитаты из перевода на английский «Маленьких трагедий» Пушкина: «Now, Saliery, listen my…» (requiem). А потом хор распевает название — «Rite of Winter, 1949» — в том числе на мотив Lacrymosa из «Реквиема» Моцарта. И девятка в обозначении года неожиданно превращается в немецкое «нет», которое несколько раз гремит над сценой: «nein! NEIN! NEEEIN!».
И этот раж отрицания, разрушения и сборки нового из обломков старого вибрирует во всём теле ещё долго после того, как музыкальная громада схлопывается в точку в финальной паузе. Можно сказать, что обрушения и вознесения Штрауса готовят восприятие аудитории к второму отделению, где постоянное сочетание вознесения и обрушения возведено в принцип. При этом Десятников несерьёзен настолько же, насколько серьёзен Штраус. Начиная с выбора материала: он написал симфонию на текст брошюрки по английскому языку для советских пятиклассников, изданной в 1949 году.

Москва — наша столица. Здесь живёт и работает великий Сталин. Хлеб делают на хлебозаводе. Чайковский — великий композитор. Я хочу стать солдатом и служить родной стране… В общем, всё как в сакраментальной цитате из «Учебника русской грамматики» Смирновского: «Дуб — дерево. Роза — цветок. Олень — животное. Воробей — птица. Россия — наше Отечество. Смерть неизбежна». Восхищение величием Родины неумолимо ведёт к необходимости умереть за неё. Нехитрые упражнения для детишек с закреплением пройденного оказываются последовательностью формул, в которые втискивает сознание человека тоталитаризм. А от сочетания примитивного содержания и головокружительной формы по коже продирает мороз: сколь угодно людоедские мысли будут благодарно восприняты, если их правильно и красиво подать.
Впрочем, сам автор говорит, что ему бы не хотелось, чтобы эта вещь воспринималась только как сатира на сталинский стиль. Здесь он в первую очередь не обличает, а изучает: пытается посмотреть на советскую культуру как некто без советского опыта — то ли иностранец, то ли человек далёкого будущего, то ли инопланетянин. А может быть, как ребёнок, потому что больше всего симфония похожа на игру свободного юного сознания, способного охватить весь мир и имеющего в арсенале всё, что было создано до него. Десятников цитирует, стилизует, имитирует (звук поезда, например). На каких-то моментах азартно застревает, превращая их в минималистские паттерны, какие-то выкручивает на максимум (например, взвивая всю мощь оркестра на дыбы на слове «burn» или заменяя нежный фагот в цитате из «Весны Священной» медными трубами). Многое здесь чересчур — как будто открытое, увиденное, прочувствованное впервые.

Концентрация энергии поражает воображение: подобно тому, как пространство сцены заполняют оркестр и хор, в пространстве симфонии встречаются православная молитвенность и ослепительная торжественность католической мессы, ироничная непринуждённость джаза и сказочные живописания в духе Римского-Корсакова, неумолимый ритм Равеля, зловещие воронки Хачатуряна, скрипичная метельность и локомотивный напор Свиридова, фанфарный гимнический блеск песен про дорогую мою столицу, «тревога-тревога-волк-унёс-зайчат»…
Получается нечто, с одной стороны, сложнейшее конструктивно, с другой — простое и хрупкое, как бумажный фонарик, сделанный в художке на Новый год некоей священной зимой незапамятного года и торжественно презентованный маме. Кстати, Десятников это сочинение как раз своей маме и посвятил.

Впрочем, если это и утренник, то в Дантовом Аду (как иллюстрация мысли о том, что в раю скучно, потому что хорошие музыканты после смерти попадают не туда). Но, в отличие от разудалого шабаша, у этого торжества есть структура — продуманная и сверкающе последовательная. Как будто нависает над тобой монструозная конструкция из труб, реторт и перегонных кубов, в которой что-то постоянно горит, взрывается и испаряется. И выдаёт по капле в подставленный гранёный стакан дистиллят всего русского — чистое, острое ощущение, где и праздник, и катастрофа, и весело, и страшно — как на прогулке с ветерком в поезде, который в огне. И этот странный эликсир — возможно, наше главное лекарство от всего на свете.